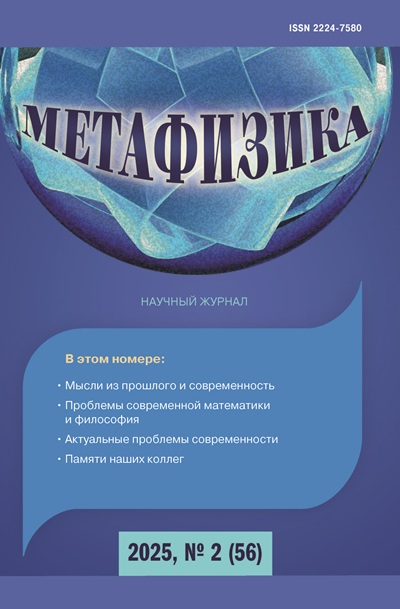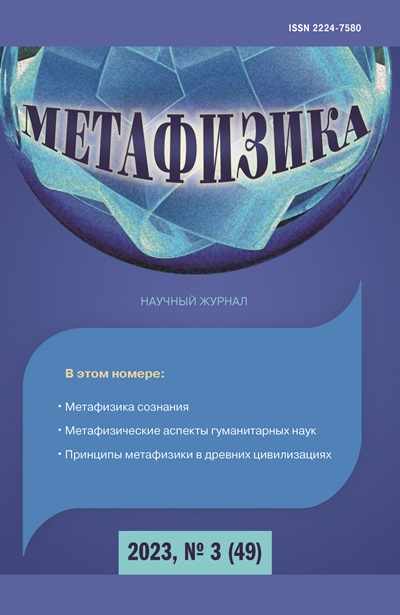«DASMAN» - «МАНКУРТ» - «ИКСРОД»: КРИЗИС МОДЕРНА В ПОЗДНЕМ ПЕРИОДЕ ТВОРЧЕСТВА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА
- Авторы: Кадыров А.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: № 3 (2023)
- Страницы: 129-143
- Раздел: Статьи
- URL: https://hlrsjournal.ru/metaphysics/article/view/37811
- DOI: https://doi.org/10.22363/2224-7580-2023-3-129-143
- EDN: https://elibrary.ru/LNWKCW
- ID: 37811
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена историко-философскому анализу творчества киргизского писателя-гуманиста советского периода Чингиза Айтматова (1928-2008). Первоначальный период творчества писателя характеризуется его увлечением «душой Фауста», результатом которого стали ранние произведения писателя, где он увлеченно воспринимает идеи прогресса, социализма, просвещения, иными словами - главные идеи эпохи Модерна. Позже, под огромным влиянием русской классической литературы, а также через глубокое изучение киргизской традиционной культуры главной темой его творчества стало отношение к народу, личности, судьбе, морали и т. д., тем самым он сделал попытку изжить из себя «душу Фауста», все более и более утверждая себя в качестве традиционного гуманиста. Но вопреки этим попыткам писатель все же сохранял некоторую двойственность: с одной стороны, он выступал как убежденный критик Модерна, с другой - он воспринимал процесс модернизации как объективное развитие истории, который нужно видеть и осмысливать. Результатами поздних размышлений писателя становятся попытки осмыслить новые понятия, такие как «Манкурт» и «Иксрод», обычно используемые для описания сознания человека при соотнесении Модерна с традицией. В известной мере эти понятия идентичны с понятием «DasMan» М. Хайдеггера. Это свидетельствует о том, что после Второй мировой войны среди европейских интеллектуалов воцарилось критическое осмысление идеалов Модерна, к которому примыкал и Чингиз Айтматов.
Ключевые слова
Полный текст
Введение «На месте ли мир?» - спрашивает Чингиз Айтматов устами своего героя в последнем романе «Когда падают горы» (2007) и сам же на этот вопрос отвечает - «мир уже не на месте» [1. С. 396]. Почему? Может показаться, что писатель специально поставил именно такой вопрос, чтобы потом, отвечая, проявить и сформулировать собственные мысли о современном для него мире. Возможно, такой пессимизм вызван собственным опытом жизни в сложных условиях современности, или же это синдром старого мудреца, который на закате своей жизни понимает, что объять мыслью современный для него мир становится трудным и недостижимым. На наш взгляд, поздний Айтматов не ради только построения литературного сюжета задает этот вопрос, который в детстве он часто слышал от своих односельчан-аксакалов. В этом вопросе писателя мы заметим обращенность к миру как пространству. Для киргизского писателя именно пространство, в отличие от времени, является объектом его поздних размышлений: большое казахское пустынное пространство - Сары-Озеки, бескрайные просторы Маюнкумской саванны и др. Но пространство мыслится не в смысле физической величины как протяженности, а его восприятие происходит через внутренний мир человека. Вот что он пишет: «…да, окружающая среда могла оставаться такой, какая она есть, веками. Но мир внутри, в душе человеческой, в то же время, как он убедился на собственном опыте, может быть полностью сокрушен. И потому снова и снова кто-нибудь вопрошает „На месте ли мир?“» [1. С. 396]. I. Увлечение и разочарование «фаустовской душой» «Суть божественного же познается именно с возрастом. Ведь все европейские философы, в частности так называемые французские энциклопедисты, начавшие в смутную предреволюционную эпоху атеистический штурм религии, который длится уже без малого триста лет, были, кстати сказать, молодыми людьми, не так ли?» [2. С. 99], - спрашивает писатель в романе «Плаха». Когда-то о французских энциклопедистах писал и А.С. Пушкин: «…влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества» [3. С. 356]. Профессора А.В. Семушкин и Н.С. Кирабаев интерпретировали этот отрывок следующим образом: «Он [Пушкин] разочаровался в атеизме как злотворном учении и осудил практические последствия европейского (французского) просветительного нигилизма, подметив его роковую диалектику утрат и приобретений и оценив его вторжение в духовную атмосферу России как непрошенного и зловещего гостя…» [4. С. 10]. Поздние романы Айтматова являются следствием его приобщения особенно к русскому, а через него и к европейскому культурному пространству. Вчерашний кочевник, видящий жизнь в совершенно ином свете, теперь же окунается в логику жизни иной системы и сам становится выдающимся представителем этой культуры. Так писатель знакомится с культурой «Фауста», - термин, используемый немецким культурологом Освальдом Шпенглером для характеристики новоевропейской культуры. По Шпенглеру, «фаустовская душа» связана с понятием линейности и бесконечности - это противоположно телесной осязательной античной культуре. Шпенглер, в частности, пишет, «…фаустовская культура была в сильнейшей степени направлена на расширение, будь то политического, хозяйственного или духовного характера; она преодолевала все географически-материальные преграды; <…> наконец, она превратила земную поверхность в одну колониальную область и хозяйственную систему» [5. С. 522]. Исследователи А. Горелов и Т. Горелова считают, что «тут соединились в один клубок цивилизационные (мотивы воли к власти и пространственная экспансия), экономические (капитализм) и политические (идеология либерализма) причины новоевропейской эпохи» [6. С. 32]. Как известно, О. Шпенглер отказывался считать новоевропейскую культуру наследницей греческой цивилизации, указывая на принципиальную разность восприятия мира обеими культурами. Примерно с Х века, как он пишет, «из саксов, швабов, франков, вестготов, лангобардов внезапно возникают немцы, французы, испанцы, итальянцы» [7. С. 173]. И в последующие значимые эпохи, особенно начиная примерно с XV, эти народы так или иначе определяли ход развития европейской, а вместе с тем и мировой истории. О критике «фаустовской души» написано много работ, но нам представляется, что О. Шпенглер удачно использовал метафору «фаустовской души» для символического описания Нового времени. Вхождение Российской империи в Среднюю (современную Центральную) Азию в статусе одной из сильнейших европейских держав и последующие события, связанные с социалистической революцией, существенно затронули онтологические основания культуры полукочевого киргизского народа, перешедшего к оседлому образу жизни. В каком-то смысле можно считать, что творчество Айтматова представляет собой продукт рефлексии над этими фундаментальными изменениями бытия своего народа. «Фаустовская душа» тянула всех представителей тогдашней советско-киргизской интеллигенции к себе. Кроме того, появившаяся прослойка интеллектуалов была продуктом советской политики, - здесь не был исключением и Айтматов. Как проясняет консервативно настроенный немецкий мыслитель О. Шпенглер, либерализм, а ровно и социализм были разными проявлениями этой «фаустовской души». Р. Гергилов отмечает: «По его мнению [Шпенглера], национал-социализм и марксизм используют материализм как некую форму религии. Обе эти идеологии базируются на либеральной идее прогресса, господствующей в XIX веке…» [8. С. 143]. Для Айтматова новые для него идеи вроде прогресса, социализма, коммунизма, индустриализации являются не просто абстракциями, взятыми из лозунгов коммунистов, но выступают как часть его семейной драмы. Отец будущего писателя был из числа репрессированных в кровавые годы сталинского террора за якобы преступную деятельность против прогресса, социализма и, наконец, против советского народа. Конечно, в годы оттепели его отца и многих других государственных и общественных деятелей посмертно реабилитировали, но рана, оставленная этой трагедией, будет преследовать писателя всю оставшуюся жизнь. В зрелые годы экзистенциальное переживание за отца станет движущим мотивом основательной критики тоталитаризма в любом его проявлении: «…свежи еще раны, нанесенные сталинской инквизицией» [9. С. 361] - так предостерегал Айтматов своих читателей. Первоначально, несмотря на трагические события его личной жизни, писатель, как и многие другие, горячо приветствовал модерн, можно сказать, увлекался сильно. Например, в самых ранних произведениях он противопоставляет человека старой эпохи с кетменём в руках человеку зарождающегося модерна. Вот как он описывает этот момент в рассказе «Сыпайчы» (1953): «Ему стало жалко себя, он почувствовал себя беспомощным человеком, который не может понять, что происходить вокруг. Люди на берегу Таласа что-то делают, но делают без него, без Бекназара» [10. С. 42]. Заметно, что в диалоге прежняя гармония человека с природой заменяется антагонизмом между ними. Так, непокорная прежним людям река обращается к герою: «Что, Бекназар! Опозорился? - шумит Талас. Ты не смог справиться со мной, а вот сын твой хочет по-другому, по-своему уломать меня! Но и ему не сладить со мной! - злорадствует пенящийся Талас» [10. С. 42]. Пройдет немного времени, и река Талас станет покорной уже новому человеку: «„А вон то, наверное, и есть экскаватор! Недаром везде говорят о нем… Ох, и шайтан-машина [дьявол-машина], как берет землю“ - приглядывал Бекназар… Теперь и Талас станет покорным» [10. С. 43]. Н.А. Бердяев в работе «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «В своих грандиозных, всегда планетарных планах, коммунизм воспользовался русской склонностью к прожектерству и фантазерству, которые раньше не могли себя реализовать, теперь же получили возможность практического применения» [11. С. 118]. И добавляет: «Русские крестьяне сейчас поклоняются машине, как тотему. Техника не есть обыденное дело, прозаическое и столь привычное западным людям, она превращается в мистику и связывается с планами почти космического переворота» [11. С. 118]. Как и русские крестьяне, ранний Айтматов также возлагает на технику большие надежды: «Да, техника подвластна человеку, надо только уметь управлять ею» [10. С. 88]. На наш взгляд, можно найти поразительную внутреннюю взаимосвязь изначального понимания техники Айтматовым со взглядами немецкого философа Мартина Хайдеггера. В связи с этим Н. Мотрошилова склоняется к тому, что после публикации «Вопроса о технике» философия Хайдеггера сконцентрировалась на основательной критике Нового времени. Она пишет, что особенно в «Черных тетрадях» это ярко обнаруживается: «И получается, что безудержная и растущая власть Machenschaft, des Rechnerischen, то есть “считающей”, расчетной деятельности, - все это, расписанное на сотнях страниц, по Хайдеггеру, суть и примеры, и порождения Нового времени. Такого сгущения всего негативного, отнесенного к Новому времени, все же не встретишь в известных до сих пор текстах Хайдеггера» [12. С. 154]. Другой исследователь - А. Михайловский, резюмируя мысли Н. Мотрошиловой пишет: «Автор выделяет четыре профилирующих категориальных слова, обозначающих у Хайдеггера суть и глубинные разрушительные тенденции Нового времени - Machenschaft (махинаторство, делячество, распоряжение сущим), das Rechnerische (счетно-расчетная деятельность), Bodenlosigkeit (беспочвенность), das Riesige (нарушение меры). Все они относятся к критике техники как завершения новоевропейской метафизики и связаны с бытийно-историческим измерением разных „национальных“ начал (английского, еврейского, немецкого, русского)» [13. С. 344]. Однако следует заметить, что в отличие от вышеназванных народов описываемое Айтматовым отношение к технике у киргизов проявлялось специфичным образом. Согласно Хайдеггеру, европейские народы во многом подходят к современной технике как das Rechnerische («счетно-рассчетная деятельность»), делая главным образом упор на выявлении возможностей техники, а также ее развития и функционирования. В то же время для киргизов современная техника воспринимался как игра и инструментально. Отсюда герои Айтматова описывают технику как «дьявол машина», - ведь чуждое, неопознанное, всегда воспринимается как угроза, часто как дьявол. У киргизов до сих пор сохранилось поразительное отношение к технике. Например, они с любопытством будут изучать любую технику, притом не основываясь на написанных инструкциях, то есть теориях, а непосредственно играя с техникой. Это поразительное отношение киргизов к технике до сих пор не раскрыто в полной мере. Здесь важно отметить, что Хайдеггер разграничивает осмысление техники в античном мире с нововременным ее пониманием: «…в начале европейской истории в Греции искусства поднялись до крайней высоты осуществимого в них раскрытия тайны. Они светло являли присутствие богов, диалог божественной и человеческой судьбы. И искусство называлось просто „техне“» [14. С. 237]. Он добавляет: «Физическая теория природы Нового времени приготовила путь прежде всего не технике, а существу современной техники… Существо современной техники являет себя в том, что мы называем по-ставом… Он продиктован властью по-става, требующего по-ставимости природы как состоящего-в-наличии» [14. С. 237]. Сам Хайдеггер был далек от истолкования техники как некого инструмента, скорее он видел в технике возможность более фундаментального проявления бытия и как путь к доступу истины в изначальном, греческом его понимании - αλήθεια. Хайдеггер в этой же работе пишет: «На Рейне поставлена гидроэлектростанция… Гидроэлектростанция не встроена в реку так, как встроен старый деревянный мост, веками связывающий один берег с другим. Скорее река встроена в гидроэлектростанцию» [14. С. 226]. Отныне сущность реки раскрывается через наличие в ней искусственных сооружений для нужд человека. В отличие от прежних времен, когда человек был органично слит с природой и «как опытный врач, изучал дыхание горной реки» [10. С. 33], «фаустовский человек» видит в природе соперника, которого надо одолеть: «Мы всегда будем бессильными, пока не построим [в реке] шлюзы, пока не откажемся от своих сыпаев» [10. С. 33]. «Если страшно, сидел бы дома, в юрте!» [15. С. 86], - отныне юрта из священного пространства, символизирующего стояние кочевника-воина, стала символизировать место для трусов. Осмысливаемая, с одной стороны, Хайдеггером сущностная взаимосвязь современной техники и эпохи Нового времени, а с другой - «фаустовская душа» Шпенглера прекрасно накладываются на те процессы, которые описывает Айтматов в ранних произведениях, правда, последний делает это без глубокого проникновения в метафизическую суть событий, поскольку он был очарован доблестью «фаустовской души». «Фаустовская душа», с ее вездесущим требованием к покорению невозможного и сложного, прекрасно вписывалась в культуру вчерашних кочевников, которые, вынужденно оказавшись в тесных уголках, избыток своей кочевой энергии с великой верой направляли на построение оседлого образа жизни, то есть на масштабные коммунистические проекты. В свое время Н. Бердяев писал так: «На энтузиазм коммунистической молодежи к социалистическому строительству пошла религиозная энергия русского народа. Если эта религиозная энергия иссякнет, то иссякнет и энтузиазм и появится шкурничество вполне возможное и при коммунизме» [11. С. 148]. Бердяев в каком-то отношении был прав, ведь, как показала история, энергия русского народа, направленная на поддержание атеистической системы, действительно иссякла и для продолжения существования нуждалась в восполнении утраченного религиозного сознания. В этом отношении непросто было и киргизам, кочевая душа которых требовала ощущения свободы на коне и юрту на высокой горе! В последующих произведениях Чингиза Айтматова мы уже не видим попытки возвыситься над природой и прежний энтузиазм, вера в бесконечный прогресс ослабевает и в каком-то отношении у него появляется разочарование. Можно сказать, что с этого момента начинает рождаться Айтматов-гуманист, сменив собой прежнего носителя «фаустовской души». Через огромное влияние русской литературы, особенно Ф.М. Достоевского, он начинает вплотную обращаться к человеку, миру детей, нежели к восхвалению больших технических проектов советского государства. Айтматов пишет: «Один из великих мировых писателей, Достоевский, как никто, видел надежду на выход из кромешного мрака в детях - самых чистых, непорочных существах. В то же время и самых униженных и оскорблённых» [9. С. 261]. Изживание в себе «фаустовской души» от ее прямолинейности, регламентированности, а также размежевание с идеологическими нарративами коммунизма происходило в ходе углубленного изучения русской классики XIX века. Как заметил писатель, «такого рода банальная беллетристика, которой довольно во все времена, не имеет ничего общего с кровеносной системой общечеловеческой культурой, и в том числе с великой русской литературой XIX века, с ее мощно разработанным психологизмом, с высочайшим нравственно-духовным потенциалом, определившим глубину и страстность поиска правды и смысла жизни, смысла существования человека» [Там же]. Можно также заметить черты схожести между гуманизмом Айтматова и гуманистической традицией эпохи Возрождения. Как пишет А. Горфункель, «…если в средневековом христианстве человек есть субъект космической драмы грехопадения и искупления, то гуманизм прокладывает путь к новой, обмирщенной антропологии, привлекая внимание к внутреннему миру человеческой личности и через это - к новой трактовке человеческого достоинства, места человека во Вселенной» [16. С. 27]. Как представляется, несмотря на изживание в себе «души Фауста», писатель всегда сохранял двойственность души: с одной стороны, как один из видных писателей большой державы он всегда носил в себе душу коммуниста, прогрессиста, иными словами, модерниста, а с другой - он был до невероятной степени простодушно-традиционным киргизом. II. Истоки двойственности Айтматов признавался: «как русскоязычный писатель я, естественно, примыкаю к русской литературе» [9. С. 324]. Так же естественно, что он не мог не ощутить и той интеллектуальной расколотости русской культуры после Петровских реформ, и обдумывать это в своем творчестве. Пожалуй, среди всех киргизских писателей и интеллектуалов только Айтматову удалось так глубоко проникнуть в русскую душу. Он так комментирует вопрос Герцена «Кто виноват?»: «„…это вечный вопрос“. И отвечать на него придется всегда» [9. С. 321]. Писатель, находясь на перекрестке между русской и киргизской культурой, старался не допустить расколотости киргизской культуры, - возможно так и выражалась одна из сторон его гениальности. Появившаяся интеллигентская прослойка не имела заметного влияния на умы людей и фактически оказалась на вторых ролях перед бушующим голосом сказателей народного эпоса «Манас». Можно сказать, что в этих вопросах Айтматов прекрасно усвоил опыт русских писателей и философов ХIХ века. Образовавшаяся пропасть и антагонизм между «верхами», то есть интеллигенцией и народом, позже оформившиеся в более четкие понятия славянофильства и западничества, наверное, составляют магистральную линию общественно-политической жизни России в ХIХ веке. Н. Бердяев писал: «ХIХ век в России не был целостным, был раздвоенным, он был веком свободных исканий и революции» [11. С. 116]. С этим мнением соглашается Айтматов, утверждая, что «…русская литература ХIХ века возникла и развивалось как форма борьбы за утверждение личности, человеческого достоинства, которое, на мой взгляд, есть ум, окрыленный свободой» [9. С. 321]. В этой борьбе Айтматов, в качестве объединителей этой раздвоенности главным образом видел Пушкина, Достоевского и Толстого, поскольку они представляют собой проявления самого народа и выражают его чаяния. Как отметил Достоевский, «никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после него, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин» [4. С. 15]. Поэтому для Айтматова появление этих исторических фигур отнюдь не является случайностью, а необходимостью, вытекающей из закономерного хода развития общественной мысли. Писатель во многих своих работах страстно доказывал, что понятия народа и массы не тождественны. Первый, словно живой организм, имеет более глубокое метафизическое содержание [17. С. 131]. Превращение народа в массы происходит в том случае, когда народ оказывается заложником какой-либо фанатичной идеологии. Айтматов считал, что «народ вовсе не желает быть иконой, на которую бы молились. Он хочет знать о себе правду» [9. С. 326]. И добавляет: «Так что писатель, утверждая свободу личности, болея болью народа, должен был утвердить себя - право на слово» [9. С. 322]. В киргизской культуре утверждение права на слово есть высшее достижение: «…только в этом случае, мне кажется, писатель может решиться думать, что имеет права говорить от имени народа» [9. С. 327]. Для русских писателей, особенно Пушкина и Достоевского, принцип говорить от имени народа означал одно: мы говорим о христианстве и о православном русском народе. Ни один русский значимый мыслитель не может говорить о русском народе и одновременно не говорить о христианстве. Российский философ Б. Межуев заметил, что «Русская философия всегда будет вращаться вокруг соловьевских тем и интуиций. Она всегда будет искать некую универсальную истину, которая сумела бы примирить науку и религию. Нам просто скучно в витгенштейновой вселенной частных верифицируемых фактов и лишенной метафизической опоры веры» [18]. В.С. Соловьев также говорит, что «русская идея, мы знаем это, не может быть ничем иным, как некоторым определенным аспектом идеи христианской» [19. С. 239]. Многие русские философы и писатели, увлекавшиеся в молодости «душой Фауста», в зрелые годы не миновали темы религии. Одна из главных идей, которыми были увлечены русские интеллектуалы, - это идея социализма. Также здесь мы заметим, что, несмотря на негативное отношение Достоевского к социализму, у него прослеживается разговор не о голом, теоретическом, а скорее о народном, «русском» варианте социализма, а точнее - христианском социализме. Поэтому обращение к народной теме является ярчайшим явлением русской, в том числе айтматовской, прозы. Айтматов как киргизский писатель исходя из своей культуры не видел никакого противоречия между национальными и общечеловеческими ценностями. Он считал, что «роль „окраин“ в культуре, основанной на общечеловеческих ценностях, будет и впредь животворным источником [общечеловеческого]» [9. С. 319]. В связи с этим С.А. Нижников пишет: «…не является ли всечеловеческое некоей надстройкой над, например, национальными интересами? На этот вопрос ясно ответил Ф.М. Достоевский, сказав, что всечеловеческое рождается из расцвета национального. Нет культуры, религии или философии как глубокой духовной традиции, лучшей или худшей, богатой или бедной, - здесь все самобытно и уникально» [25. С. 110]. III. «DasMan»-Манкурт-Иксрод Практически во всех поздних произведениях Айтматова присутствует осмысление «пост-идеологического» общества, а также последствий увлечения разными идеологиями. Безусловно, XX век ознаменовал собой небывалый прежде прогресс в условиях человеческого общежития. Как пишет А. Горелов: «При этом отдельные элементы социализма - бесплатное здравоохранение и образование, право на труд и на отдых и т.п. - воплощались в жизнь, а культурная революция дала возможность благодаря ликвидации неграмотности во многом преодолеть тот разрыв между народом и интеллигенцией, о котором печалился Достоевский» [20. С. 60]. Вместе с тем в айтматовских произведениях мы прослеживаем некую скептическую настороженность, тревогу по отношению к современному обществу и человеку: «Вот ведь выучили на свою голову болтуна никчемного. Поглядеть с первого раза - вроде ничего малый. Все-то он знает, все-то он слышал, только толку мало от всего этого. Учили, учили по интернатам, по институтам, а человечек получился не ахти. Похвалиться любит, выпить, тосты говорить мастак, а дела нет» [21. С. 25]. Поэтому понятия «Манкурт» и «Иксрод», введённые писателем для характеристики постидеологического и постпросвещенского сознания, являются фундаментальными. Кроме того, эти понятия по существу близки с концепцией «DasMan» Мартина Хайдеггера. Если последнее понятие исходит из «глубины» европейской метафизики, то понятие «манкурт» является старинным словом, используемым в киргизском эпосе «Манас», которое обрело новое значение благодаря Айтматову. В романе «Тавро Кассандры» писатель использует понятие «иксрод», - оно описывает человека, который «выращен» искусственноинкубаторном методом, соответственно, не имея никаких социальных, родственных связей и фактически представляя собой биологического робота. В романе «И дольше века длится день» Айтматов пишет: «Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери - одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишённый понимания собственного „Я“, манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ… Он никогда не помышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое страшное - восстание раба. Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным в своём роде исключением - ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев» [21. С. 109]. Таким образом, писатель переносит понимание манкурта из исторического контекста в описание современного состояния постидеологического человека. Кроме политических идеологий, запущенный масштабный процесс просвещения народа, в большей части имея позитивные черты, все же не обходился без перегибов, когда всё народное, традиционное считалось пережитком прошлого и подлежало искоренению. В свое время у «Авторской исповеди» Гоголя звучат некоторые мотивы: «Сколько я себя ни помню, я всегда стоял за просвещенье народное, но мне казалось, что еще прежде, чем просвещенье самого народа, полезней просвещенье тех, которые имеют ближайшие столкновения с народом, от которых часто терпит народ. <…> А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающимся в наставлениях писателя» [22. С. 435]. Мартин Хайдеггер вводит понятие «DasMan», которое обозначает неподлинное существование человека: «Основная черта подобной заботы - ее нацеленность (как практически-деятельного, так и теоретического моментов) на наличные предметы, на преобразование мира» [23. С. 583]. Также «главная характеристика мира повседневности - это стремление удержаться в наличном, в настоящем, избежать предстоящего, то есть смерти. Сознание человека здесь не в состоянии отнести смерть (конечность, временность) к самому себе» [Там же]. Описываемое Айтматовым понятие «манкурт» в точности отражает суть человека-«DasMan». Озабоченность настоящим и повседневным является главной характеристикой человека-манкурта. Вот как писатель в романе «И дольше века длится день» описывает современного «DasMan»манкурта: «И только Сабитжан мешался тут, отвлекая от дел, разглагольствовал о том, о сем, кто на какой должности в области, кого сняли с работы, кого повысили. А то, что жена его не приехала хоронить свекра, это его нисколько не смущало. Чудной, ей-богу! У нее, видите ли, какая-то конференция, а на ней должны присутствовать какие-то зарубежные гости. А о внуках и речи нет. Они там борются за успеваемость и посещаемость, чтобы аттестат получить в лучшем виде для поступления в институт. „Что за люди пошли, что за народ! - негодовал в душе Едигей. - Для них все важно на свете, кроме смерти!“ И это не давало ему покоя: „Если смерть для них ничто, то, выходит, и жизнь цены не имеет. В чем же смысл, для чего и как они живут там?“» [21. С. 30]. Хайдеггер, разрабатывая свою фундаментальную онтологию, видел возможность вырваться из этого состояния в обращенности человека к бытию - Dasein. Аутентичное бытийствование представляет собой жизнь человека перед лицом смерти, осознанности своей конечности. Также «попытка вырваться из беспочвенности Мартина Хайдеггера, прояснить условия и возможности своего существования может осуществляться лишь благодаря совести, которая вызывает существо человека из потерянности в анонимном, призывает человека к „собственной способности быть самостью“» [23. С. 514]. В последующих романах Айтматова тема манкуртизма нашла отражение в понятии «Иксрод». Если манкуртизм базируется на забвении и отрицании прошлого, то «Иксрод» в полной мере продукт искусственного порождения человека с помощью современной науки. Таким образом, размышления писателя по поводу человека «Иксрода» отражает основную проблематику современной биоэтики. В вопросах искусственного вмешательства в генетику человека писатель-гуманист занимает крайне жесткую позицию, замечая, что «наука бесстрастно балансировала между гениальностью открытий и преступностью действий…» [24. С. 220]. Для писателя человек-иксрод есть вершина развития современной науки и цивилизации, особенно в его «Фаустовском» виде. Не будучи профессиональным философом, писатель в вопросах развития науки обращается к философу А. Лосеву: «А высказывание великого философа Лосева, который, размышляя о роли науки в истории человечества, обронил как бы специально для тебя актуальную мысль, ты удосужился отодвинуть от себя подальше. Лосев же, между прочим, писал по поводу нигилизма новоевропейского учения о бесконечном прогрессе общества и культуры, что, согласно европейской парадигме, ни одна эпоха не имеет смысла сама по себе, а лишь как подготовка и удобрение для другой эпохи, и каждая следующая эпоха тоже не имеет смысла сама по себе, а и она тоже - навоз и почва для грядущей эпохи, а равно и всех возможных эпох; цель же постоянно и неизбежно отодвигается все дальше и дальше, в бесконечные времена, неизменно оправдывая тем самым провозглашателей всех новых эдемов» [24. С. 219]. Таким образом, для писателя бесконечный прогресс является фикцией, особенно когда ради прогресса без оглядки на последствия используются все открытия науки. Безликий прогресс изживает изнутри человечность и сам порождает угодного для себя человека. Писатель так описывает цель появления человека-иксрода: «Семья и прочие родственные отношения как архаичные институты старого мира насилия будут сброшены на свалку истории именно иксродами. Иксроды как носители небывалой свободы личности и духа будут прокладывать путь к новой эре человечества, давно предвиденной нашим революционным учением» [24. С. 231]. Вера и уподобление технике как той силе, которая раз и навсегда может решить все человеческие несовершенства и пороки является нечем иным, как беспомощностью и нежеланием человека преодолеть в себе эти пороки. Для писателя-гуманиста человеческая сущность как раз состоит в том, что человек несовершенен. В этом последнем моменте писатель безусловно испытал влияние христианства, где человек изначально грешен и должен спасать свою душу. В этом смысле взгляды Айтматова полностью противоположны концепции постгуманизма, - он не собирается преодолевать прежнего человека. Для него невозможно представить жизнь, в которой отсутствует добро и зло, наоборот, человек брошен в эту борьбу: «Так мировой разум получается есть арена борьбы между злом и добром. В этой войне человек проигрывает схватку злу. А единственным поборником добра - выступал именно человек. Но человек не выполняет своего долга перед мировым разумом. И в дело подкючается сама природа, даже без возможности говорить» [24. С. 53] Несовершенство человека понимается писателем скорее в духовно-культурном плане, поэтому он пишет «О неизбывной проблематичности пребывания человека среди себе подобных, целиком поглощавшей человеческие существа от рождения до смерти, и о попытке постижения главной сути бытия человек не сотворен изначально добродетельным (курсив наш. - А.К.), отнюдь нет, для этого требуется неустанно прилагать душевные усилия и всякий раз, с каждым новым рождением, заново приступать к этому - для достижения недостижимого идеала. И все в человеке должно быть направлено на это. Только тогда он - человек» [24. С. 75]. Опять же здесь нужно заметить влияние христианства на писателя, ведь для киргизского мировидения человек рождается без какого-либо понятия о грешности души, иными словами, без библейской мифологии. В образе Едигея из романа «И дольше века длится день» можно заметить «возращение» того человека, который жил за бортом «фаустовской души», но уже имел опыт взаимоотношения с людьми, которые примыкают к этой душе. В этом смысле Едигей - тот же Бекназар, который выступал в ранних произведениях: «Едигей уже забыл о космическом корабле, стартовавшем прошлой ночью. А вот знающие люди кое-что сказали такое, что и он призадумался. Не то чтобы он сделал открытие для себя, просто подивился их суждениям и своему неведению на этот счет. Но он при этом не испытывал внутреннего укора - для него все эти космические полеты, столь занимающие всех, были очень далеким, почти магическим, чуждым его делом» [21. С. 35]. Едигей - это человек, который столкнулся с модерном, но, даже сохраняя нерасположенность души и морали к модерну, он вынужден иметь дело с этим миром. В отличие от концепции археомодерна А. Дугина, где борьба между традицией и модерном происходит в основном в интеллектуальной сфере, борьба Едигея с модерном осуществляется не в сфере рефлексивных состязаний, а именно в сфере морали. В отличие от тех же русских славянофилов, прекрасно знавших модерн изнутри, у Едигея отсутствует интеллектуальный доступ к модерну, поэтому он в споре с городскими людьми уступает в просвещении, но сохраняет, скажем так, «последний патрон». И этот патрон выражается в его чрезвычайной устойчивости и преданности в сохранении морали, должного, человеческого достоинства и уважения ко всему, а также к почитанию умерших. В его мире все это не зависит от уровня образования и масштабов просвещенности. В этом выражается принципиальное различие с новоевропейской культурой, где идеологи-просвещенцы видели прямую связь между уровнем образования и моральной осознанностью, что мол нужно только просветить народ и все общественное устройство избавится от всех несовершенств. Поэтому писатель не скрывает симпатии к своему герою: «Я хочу, чтобы такие люди, как Едигей, жили долго и, дождавшись внуков, а может быть, и правнуков, могли передать им познание своей души» [9. С. 326]. Кроме того, большинство произведений Айтматова не загромождено «языком» терминов и понятий, что позволило ему обойтись без жонглирования понятиями, и большинство диалогов между его героями происходит с помощью живого обыденного языка, чего не скажешь, например, о диалогах героев Достоевского, где философский язык более тесно вплетен в его произведения. В этом и выражается душа Едигея: он менее образован, но больше сохранил истинно человеческие качества, такие как сострадание, преданность к труду и семье, бережное отношение ко всему живому, а главное - веру и надежду на лучшее будущее человечества. «Фаустовская душа» была повержена перед стойкостью Едигея, чего не скажешь о последнем герое Айтматова. В романе «Когда падают горы», написанном более чем через тридцать лет после «И дольше века длится день», писатель рисует человека, который в известной мере представляет собой прямую противоположность Едигея, но сохраняющего душевную взаимосвязь с последим. Главный герой, Арсен Саманчин, - интеллектуал, журналист и прекрасно образованный человек. Но у него отсутствует тот внутренний моральной стержень, что присутствовал у Едигея. Он - человек с «душой Фауста», но, несмотря на дерзость духа, неуверенный в себе, у которого имеется бесчисленное количество вопросов, на которые он не может найти ответы. Он также прямая противоположность ранних героев Айтматова. Так, Данияр из повести «Джамиля», сидя на повозке, любил петь, Саманчин же всегда напряженно размышлял, потеряв спокойствие души и держа в голове нескончаемое количество неразрешимых метафизических вопросов: «Арсен и в этой дорожной напряженности размышлял все о том же: как жить дальше, как быть? И если бы только это! Набегала попутно все та же настойчивая, неотвязно терзающая мысль [о самоубийстве], от которой всякий раз становилось не по себе» [1. С. 358]. Он уже не мог найти умозрительную альтернативу самоубийству, его не спасали идеи, которым он всегда старался быть верным. В этом смысле он покинул почву киргизской культуры. На наш взгляд, в этом и выражается смысл вопроса Айтматова, который мы поместили в начале статьи - «На месте ли мир?», и его ответ - «Мир уже не на месте». Встретившись с «фаустовской душой», иными словами - с модерном, Айтматов, и вместе с ним и вся киргизская культура, должен был иметь дело с новыми явлениями. Через литературные образы писатель смог создать концепты своего видения этих процессов, что в конечном итоге стало его философией. В двойственности взглядов Айтматова на модерн выражается его открытость, - не замкнутость и отсутствие боязни перед модерном, скорее попытка осмыслить и понять его логику. Осмысление встречи с модерном стало личной и писательской судьбой Айтматова, но эта тема до сих пор не осмыслена в достаточной степени, что оставляет место для дальнейших размышлений литературным критикам и философам. Заключение Таким образом, исходя из историко-философского анализа эволюции взглядов Чингиза Айтматова можно сделать следующие выводы. Во-первых, раннее творчество писателя можно охарактеризовать как увлечение «душой Фауста», иными словами, - идеей прогресса, социализма и коммунизма. Во-вторых, огромное влияние русской классической литературы вывело Айтматова на тему человека. В этот период писатель изживает в себе «душу Фауста» и тем самым все более и более утверждает себя как писателя-гуманиста. В-третьих, писатель вводит новые понятия для описания современного человека, такие как «Манкурт» и «Исксрод», что, по сути, соответствует «DasMan» М. Хайдеггера. Данное обстоятельство позволят говорить о перекличке идей, связанных с осмыслением кризиса европейской культуры.Об авторах
Арген Кадыров
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: argenkaddyrov@gmail.com
аспирант факультета гуманитарных и социальных наук Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
Дополнительные файлы