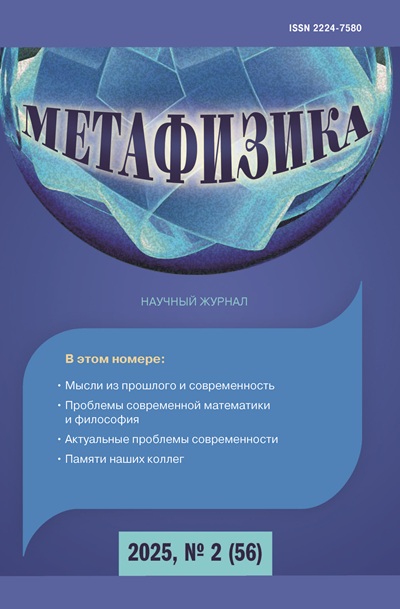PHILOSOPHICAL SIGNIFICANCE OF THE THEORY OF RELATIVITY
- Authors: Vasiliev A.V.1
-
Affiliations:
- Issue: No 4 (2022)
- Pages: 176-189
- Section: THOUGHTS FROM THE PAST
- URL: https://hlrsjournal.ru/metaphysics/article/view/33850
- DOI: https://doi.org/10.22363/2224-7580-2022-4-176-189
- ID: 33850
Cite item
Full Text
Abstract
Chapter VI from A.V. Vasiliev’s book “Space, Time, Movement” (Berlin: Argonauts Publishing House, 1922)
Full Text
Глава VI из книги А.В. Васильева «Пространство, время, движение» (Берлин: Изд-во «Аргонавты», 1922)[33] Где реальное мне отыскать и поймать? Что мне делать? Куда мне бежать От тревоги и грусти бессонной? Все спасение мое только в мысли одной, Только в мысли найду я покой. Н.А. Васильев (Тоска по вечности) В истории человеческой мысли мы встречаемся не раз со знаменательной борьбой двух философских воззрений. Одно довольствуется изучением феноменов, признавая наши ощущения единственной реальностью нам доступной. Другое, напротив, стремится, говоря словами того же поэта, «сорвать покров с лживого и бледного фантома явлений» и найти ту скрытную реальность, отражением которой являются феномены. На протяжении веков этот спор принимает разнообразные формы и в первых главах нашей книги мы подробно остановились на некоторых моментах этого спора, тесно связанных с вопросами о пространстве‚ времени и движении. Резюмируем вкратце сказанное в них. Наивному реализму Ионийской школы, признававшей за реальность воду, воздух, огонь, и феноменализму Протагора, объявившего человеческие ощущения единственной мерой всего, Пифагорейская школа противопоставила свое учение, по которому «все познаваемое должно быть связано с числом, ничто не может быть понято без числа». Развитием этой первой математической философии явились и атомистическая теория Демокрита, и учение об идеях Платона. И тот и другой видят истину не в ощущениях, всегда изменчивых, но ищут за этими ощущениями скрытую истинную реальность. Движущиеся в пустом пространстве атомы объясняют для первого все явления мира, для другого все феномены суть только тени на стене пещеры, отбрасываемые телами, невидимыми для пленников, осужденных в ней пребывать. И тот и другой сходятся в вопросе о необходимости найти разумное обоснование всего существующего, «логос». И оба видят этот «логос» в математических истинах, в арифметике и геометрии. Это несомненно по отношению к Платону; на это указывает то высокое уважение к математике, которое он внушал своей школе. Но и для выдающегося математика Демокрита атомы были безусловно ответом на те вопросы о делимости и неделимости, прерывности и непрерывности, которые были подняты в Пифагорейской школе открытием иррационального числа. Но реальность, найденная Пифагорейской философией, Платоном и Демокритом, не могла удовлетворить скептические умы. Мы знаем по апориям Зенона, до какой глубины могла доходить диалектика греческих мыслителей в вопросах о пространстве, времени и движении. Зенон явился представителем метафизики, противоположной метафизике Пифагорейцев; метафизика Зенона объявляла реальность «Единого бытия». Но вероятно, что и феноменологическая точка зрения, выдвинутая Протагором, находила своих защитников в знаменательную для истории мысли эпоху конца 5-го и начала 4-го столетия до Р. Х. В это время, как мы знаем из жизни Демокрита, зарождалось и опытное знание, изучение феноменов. С этой точки зрения можно смотреть на философию Аристотеля, ученика и Платона, и врачей, людей опытного знания, как на синтез между наукой опыта и наблюдения и идеалистической философией предшественников Аристотеля. Синтез этот на многие века удовлетворил человеческое мышление, но те два противоположных течения, примирением которых он явился, обнаружились в средневековом схоластическом споре номиналистов и реалистов. В вопросе о пространстве и времени Аристотель стоит уже, насколько это было тогда возможно, на опытной почве. В то время, как для Демокрита пространство есть пустое небытие, а для Платона оно есть нечто среднее между идеями и веществом, Аристотель заменяет вопрос о пространстве вопросом о месте, и его постановка этого вопроса, как было указано в 1-й главе… сводится к вопросу об абсолютном и относительном движении. Неясность соответствующих мест физики и других сочинений Аристотеля была причиной тех оживленных споров между его комментаторами, о которых мы подробно говорили в той же главе. На то из этих толкований, которого держались Ибн-Рушд и его школа, опирались главным образом противники Коперника и Галилея. Ренессанс принес возрождение как Платонизма, так и атомистической философии Демокрита. Под влиянием первого учение о пространстве приняло в итальянской (Патрици, Кампанелла) и в английской натурфилософии ту мистическую форму учения о пространстве как об одухотворенной субстанции, которая всего определённее была высказана Мором в его «Enchyridion», появившемся за тринадцать лет до бессмертного сочинения Ньютона. Трудно отрицать влияние атмосферы английского Платонизма на метафизические взгляды Ньютона, на формулировку понятий об абсолютном пространстве и времени, на его учение об имматериальности силы. Но в то же время Ньютон был одним из величайших основоположников математического естествознания, и в частности механического мировоззрения. В этом его бессмертная заслуга. Громадное значение, которое имела классическая механика в её приложении к макрокосмосу и к микрокосмосу, естественно, вызвало желание обосновать вместе с тем и метафизические предпосылки «Principia». Особенно важны те обоснования‚ которые были предположены, с одной стороны, Эйлером, одним из величайших математиков 18 столетия, с другой стороны, Кантом, философия которого имела такое громадное влияние на всю последующую историю философии. Эйлер и Кант не могли при этом не считаться с теми возражениями, которые были выдвинуты против метафизических взглядов на пространство ирландским философом Беркли. Впервые в новой философии возобновляя традицию Протагора, Беркли явился представителем последовательного феноменализма, отвергавшего даже существование материальной субстанции. Но его аргументы против абсолютного пространства и абсолютного движения, изложенные им как в его главном сочинении «Трактат о началах человеческого знания», так и в особенности в сочинении, специально посвященном вопросу о движении „De motu“, не были до сих пор достаточно оценены. И математическое естествознание, и даже философия остались почти без влияния аргументов Беркли. Первое находилось под влиянием блестящих успехов механического мировоззрения. В философии спор между феноменологическими воззрениями Беркли и Юмом, с одной стороны, и метафизическими системами самого Беркли[34], Декарта, Спинозы, Лейбница, с другой, был на время решён новой синтетической философией Канта. Признание полного детерминизма явлений мирится в этой системе с признанием «вещей в себе». На всей философии Канта отражается влияние его учения о пространстве и времени. В зависимости от того или другого взгляда на пространство и время находились всегда и его общие философские воззрения. Так и его отношение к вопросу об абсолютном пространстве находилось в тесной связи с его учением о пространстве; по тому учению, на котором остановился Кант в своей «Критике чистого разума» и которое имело громадное влияние и на философию и на науку XIX столетия, пространство было признано субъективной формой нашего воззрения‚ в которую необходимо облекаются все наши ощущения; геометрические истины не суть истины опытные, но так же как и пространство, даны a priori, как необходимые условия всякого опыта. Геометрия - наука о чистом пространстве, равно как и Алгебра - наука о чистом времени - суть науки чисто формальные, вполне оторванные от опытной основы и не имеющие никакой связи с тем чувственным материалом, который дается нам ощущениями. Это идеалистическое учение Канта развивалось ещё далее Фихте и Шеллингом. Последний, например, считал возможным выводить три измерения нашего пространства из природы нашего духа. Во взгляде на независимость пространства и времени от явлений, происходящих в мире‚ сходились с идеалистическими учениями XIX века и учения материалистической философии. «В евклидовом пространстве в равномерно протекающем времени происходит движение атомов и этими движениями объясняются все явления», - «кроме сознания», прибавляли идеалисты‚ «и даже и сознание» - не соглашались с ними материалисты. В этом здании, которое казалось почти законченным, первая брешь была пробита бессмертными создателями неевклидовой геометрии. Гаусс, Лобачевский, Риман первыми усомнились в резком различии наших представлений о пространстве от других наших восприятий и первыми посмотрели на пространство глазами естествоиспытателя. Мы привели в главе III те места сочинений Лобачевского и Римана, в которых они выразили свои мысли о связи, существующей между силами и метрическими свойствами пространства. Как бы в развитие этих только попутно брошенных гениальных мыслей Клиффорд построил теорию, по которой движение и вещество суть только проявления кривизны пространства и ничего более. К той же идее связи между геометрией и физикой философы и математики пришли, изучая вопрос о происхождении аксиом геометрии. Беркли и Ибервег указали на связь между аксиомами геометрии и свойствами движения твёрдого тела. Математическая формулировка этой связи была дана Гельмгольцем и Софусом Ли в виде теории непрерывных групп преобразований пространства, рассматриваемого как многообразие трех измерений. Как эти работы, так и исследования Гаусса, Грассмана и Римана все более и более знакомили математиков с идеей о пространстве, как частном случае многообразия многих измерений, и с необходимостью построения теории таких многообразий. Такая теория и была построена на основаниях, данных Риманом, и ею, как незаменимым орудием, могла воспользоваться общая теория относительности. С другой стороны, работы психофизиологов и английской эмпирической философии, развивая те мысли и исследования, начало которым было положено Беркли, приводили к убеждению в том, что наши пространственные представления вырабатывались постепенно в индивидууме и в расе, как результат взаимодействия нашей психофизиологической организации и среды, то есть физических явлений. Таким образом‚ и неевклидова геометрия и психофизиология одинаково подрывали веру в учение Канта о трансцендентности аксиом геометрии и независимости представлений пространства и времени от опытов и наблюдений. Из наиболее крупных представителей математического естествознания во второй половине XIX столетия в этом направлении высказывались и Гельмгольц, и Пуанкаре. Но никто в XIX веке не выражал так определенно своих феноменологических взглядов, как Мах, и эти взгляды он проводил с одинаковой последовательностью, как по отношению к аксиомам геометрии, так и по отношению к основаниям механики. Его небольшая брошюра 1872 года - «Принцип сохранения работы» есть несомненно одно из замечательнейших произведений научной философии. В этой брошюре Мах впервые после Беркли выразил сомнение по отношению к положениям Ньютона и предложил свою гипотезу для объяснения тех явлений, наблюдаемых при вращении, которые для Ньютона, Эйлера и Канта служили доказательством в пользу допущения абсолютного пространства. Никто больше Маха не способствовал созданию той умственной атмосферы, благодаря которой взгляды теории относительности, несмотря на их видимую парадоксальность, тем не менее находят все большее признание. В своем некрологе Маха Эйнштейн пишет: «Вероятно Мах пришел бы к теории относительности, если бы в то время, когда дух его быль юношески свеж, вопрос о постоянстве скорости света уже занимал физиков». Действительно предвидения Лобачевского, Римана и Клиффорда, мысли, настойчиво в течение всей жизни высказываемые Махом, обратились в стройную доктрину и приняли вид математической теории только после того, как расширились рамки нашего физического опыта и исследования в области механики масс, в которых приходится иметь дело со сравнительно небольшими скоростями, и были дополнены исследованиями в области электромагнитных и оптических явлений. Все попытки построить теорию этих явлений на основах классической механики и действия на расстоянии оказались несостоятельными. Взамен их получало все большее и большее значение новое понятие о поле, введенное Фарадеем, и Максвелл построил на основании взглядов Фарадея математическую теорию электромагнитных явлений. Конечный закон действия на расстоянии заменяется в теории Максвелла системой дифференциальных уравнений‚ в которых встречается единственная физическая постоянная - скорость света, так как и вся теория света является только одной из глав общей теории электромагнитных явлений. Но новая теория, по-видимому, находится в противоречии с фактами. Подобно тому, как никакими механическими опытами, производимыми внутри системы, нельзя удостовериться, находится ли она в состоянии покоя или в состоянии равномерного прямолинейного движения, разнообразные электромагнитные и оптические опыты также не давали возможности решить этот вопрос. Но в то же время уравнения электромагнитного поля показывали неприменимость к явлениям электричества той аналитической формулировки, которая была дана принципу относительности в классической механике. Выход из этого противоречия был найден Эйнштейном. Он указал, что математический факт инвариантности уравнений, найденный Фойгтом и Лоренцем, допускает и иное толкование, отличное от того, которое ему дал Лоренц. Сокращение, которое необходимо допустить для объяснения опыта Майкельсона, не есть сокращение‚ происходящее в телах при движении как результат изменения электромагнитных сил под влиянием этого движения; оно есть результат того, что движущийся наблюдатель неминуемо применяет иную систему измерения времени и длины. Но при всех этих изменениях остается неизменным выражение , подобно тому, как при всех изменениях прямоугольных координатных осей остается неизменным расстояние между двумя точками пространства и, соответственно этому, функция . Та зависимость между пространственными координатами и координатой времени, которая устанавливается неизменностью выражения, в которое входят все четыре координаты, ведет к парадоксальным следствиям. Подобно тому как из неизменности выражения следует, что увеличение одной координаты ведет к уменьшению других, так из неизменности выражения и из того, что при члене стоит знак минуса, вытекает, что увеличению расстояния между двумя событиями в пространстве соответствует увеличение интервала времени между ними. Два события, происходящие почти в одно и то же время почти в одном и том же месте, находятся между собой в таком же соотношении, как два события, отделённые друг от друга и громадным пространством, и большим промежутком времени. Независимость пространства и времени, которая лежит в основе понятия об абсолютном времени, протекающем без отношения к чему-либо внешнему, должна быть заменена введением общего понятия, связывающего в единое и пространство, и время. Такое общее понятие - непрерывное многообразие четырех измерений - было введено Минковским. Мир, элементы которого суть «точки - события», каждое из которых определяется четырьмя числами, есть целое, но каждый движущийся наблюдатель по-своему расслаивает это целое подобно тому, как на бумажной фабрике можно расслоить бумажную массу в разных направлениях и образовать из этой связной массы различные кипы бумажных листов. Не метафизические соображения, которые и ранее сближали пространство и время, но математический факт инвариантности уравнений Максвелла и подтверждение следствий этого факта опытами физики приводят нас к новой концепции, ведущей к парадоксальным следствиям. Но не можем ли мы найти в изучении образования наших пространственных представлений, с одной стороны, и в истории человеческой мысли - с другой, аналогию этой новой концепции? Не могут ли эти аналогии помочь нам примириться с парадоксальностью новой концепции, которая позволяет применить к изучению событий, происходящих в пространстве и времени, созданное математиками учение о многообразии? В главе III мы говорили о тех психофизиологических исследованиях, начало которых было положено Беркли и которые установили различие между тем геометрическим пространством Евклида, к которому мы до сих пор относили все явления, и тем физиологическим пространством, из которого оно произошло и от которого оно резко отличается. Даже при своём наибольшем приближении пространство физиологическое, пространство нашего непосредственного опыта, отличается от пространства науки, к которому нас привело расширение нашего географического и астрономического опыта. Легко преодолено было человеческой мыслью различие между правым и левым, между передним и задним, но не так легко было преодолеть различие между верхом и низом, нашедшее выражение в аристотелевском учении об естественных местах тел. Чтобы выразить невозможность какой-нибудь вещи, Сосикл Коринфский говорит у Геродота: «Скорее небо будет под землёю, а земля будет парить в воздухе над небом, чем...». Припомним то, что говорилось против антиподов, против людей, висящих головами вниз, и перевернутых вершинами вниз деревьев. И теперь после многих столетий «здравый смысл» не прошедшего школу человека не мирится с этими для нас обычными фактами. Теперь новое расширение наших знаний, введение в круг наших опытов скоростей, приближающихся к скорости света, заставляют нас объяснять явления (опыт Майкельсона, тонкую структуру спектральных линий) тем, что для нас очевидно, что различие пространства и времени есть только результат нашей организации и что истинная реальность есть мир, совокупность точек-событий, определяемых четырьмя числами. То, что называется специальной теорией относительности, есть утверждение инвариантности законов мира по отношению к некоторой группе ( ) преобразований, оставляющей неизменным выражение или дифференциальную квадратичную форму . Но специальная теория относительности, подобно принципу относительности классической механики, относится только к равномерным и прямолинейным движениям и группа ( ) есть группа линейных преобразований, по своему виду весьма близко схожая с группой, характеризирующей евклидово пространство, и вполне совпадающая с ней (по виду, но не по числу переменных), если ввести, вместе с Минковским, мнимое время. Мир становится тогда евклидовым многообразием четырёх измерений. Можно ли, однако, примириться с тем исключительным положением, которое и специальной теорией относительности, и классической механикой приписывается равномерным прямолинейным движениям? Ещё в глубокой древности мыслители (может быть, Зенон и, наверное, Аристотель) искали абсолютно покоящееся тело среди хаоса разнообразных относительных движений. Когда Протагор утверждал своё общее положение о человеке, как мере всех вещей, об относительности всех наших знаний, он не мог не видеть наиболее яркого аргумента в пользу своего утверждения в тех иллюзиях, которые связаны с движением. Позже, когда возник вопрос о том, кто прав в вопросе о неподвижности земли - Аристарх Самосский или Птолемей, - вопрос этот был в сущности вопросом о различии между относительным и абсолютным движением. Ньютон указал на возможность отличить абсолютное движение от относительного‚ но ни его физическое доказательство, ни метафизическая аргументация Канта не могли окончательно решить вопрос, и мы знаем, что в 1721 году Беркли и в 1872 году Мах высказали свое критическое отношение к идее абсолютного пространства Ньютона. Однако не только вопрос об относительности равномерного прямолинейного движения есть частный случай общего вопроса об относительности движений криволинейных и ускоренных, но и этот общий вопрос об относительности движения есть также, в свою очередь, частный случай более общего вопроса об относительности изменений. Невозможности отличить покой от движения соответствует более общий вопрос о том, какие изменения могут происходить, не будучи замечены наблюдателем. Испанский схоластик Бальмес (1810-1848) ставил вопрос о том, заметило ли бы человечество, если бы солнце удвоило быстроту своего бега, если бы то же самое изменение коснулось и быстроты небесных и земных явлений и если бы это ускорение в то же время распространилось бы и на нас и на наши идеи. Позже подобный же вопрос был поставлен Лапласом в его знаменитом «Изложении системы мира». Лаплас видел особое значение ньютонова закона всемирного притяжения в том, что на основании этого закона, если бы размеры всех тел Вселенной, их взаимные расстояния и их скорости возросли или уменьшились бы в одном и том же отношении, небесные тела продолжали бы описывать кривые, совершенно подобные тем, которые они описывали прежде. «Вселенная, сузившаяся до размеров, занимаемых атомом, представляла бы наблюдателю ту же самую картину... Простота законов природы позволяет нам наблюдать и познавать только отношения». Эта проблема подобных миров[35] есть частный случай более общей проблемы деформации мира. Мы можем предположить, например, что, как это имеет место в гипотезе Лоренца и Фицджеральда, тела сокращаются только в направлении их движения или подвергаются деформациям подобно тем, которые мы видим в вогнутых зеркалах. Вопрос о том, может ли быть замечена деформация Вселенной наблюдателем (предполагая, конечно, что и его тело, и инструменты измерения подвергаются деформации по тому же закону, как и все тела Вселенной), есть вопрос необыкновенно сложный, пока мы имеем дело отдельно с пространством и временем и с физическими величинами, зависящими от пространства и времени. Но этот же вопрос представляется в ином свете, если мы применим его к тому новому понятию, которое было введено Минковским, о пространственно-временном континууме-мире. Мы говорили в конце главы III, что введение этого понятия даёт нам возможность утверждать, что все наши наблюдения и опыты и всё знание, на них основывающееся, - в конечном результате сводятся к изучению пересечений мировых линий. Но подобно тому, как при деформации поверхности не изменяются пересечения линий, проведенных на поверхности, как при деформациях студнеобразной массы не изменяются пересечения линий, проведенных внутри неё, так и при деформации многообразия четырех измерений, при которых точка-событие, определяемая координатами , переходит в точку-событие не изменяются пересечения мировых линий, если закон преобразования будет один и тот же для всех точек-событий. Преобразования эти выражаются аналитически уравнениями: причем функции должны удовлетворять некоторым математическим условиям (непрерывность и однозначность). Совокупность всех таких преобразований очевидно составляет группу, которую мы назвали в предыдущей главе группой ( ), и если законы природы могут быть выражены в форме, инвариантной по отношению к преобразованиям группы ( ), то картина видоизмененной Вселенной будет тожественна картине Вселенной до деформации. В этом заключается тот общий принцип относительности, частный случай которого составляет принцип относительности всех движений, так как группа преобразований‚ соответствующих движениям, составляет только частный случай общей группы преобразований ( ). Но общность вида преобразований, даже в частном случае каких-либо движений, приводит к необходимости обобщить форму того инвариантного дифференциального выражения, которое определяет метрику мира, нами изучаемого. Таковы те соображения общего характера, которые могут объяснить основное положение общей теории относительности: Мир есть многообразие четырех измерений, метрики которого определяются формулой Законы природы должны быть выражены в форме инвариантной по отношению к группе преобразований‚ не изменяющих выражение . В главе V мы указали те причины, по которым функции могут быть рассматриваемы в то же время как величины, характеризующие поле тяготения как потенциалы тяготения. Таковы важнейшие основные положения общей теории относительности, которые дали возможность рассматривать теорию тяготения как главу геометрии многообразия четырех измерений. Мы указали в главе V на следствия, вытекающие из новой теории, которые придали ей особое значение. Она встретила большое сочувствие среди математиков, увидевших в ней новое подтверждение могущества математического анализа. Выдающиеся современные математики, Феликс Клейн, Давид Гильберт, Вейль, Леви-Чивита, приложили свой талант к выяснению её основ и тёмных мест теории. С другой стороны, новизна концепций и парадоксальность многих выводов отталкивает от неё тех ученых, которые привыкли иметь дело с конкретной действительностью, с явлениями, происходящими в пространстве и времени. Сдержанное отношение Лоренца и Лоджа, нападки Ленара на общую теорию относительности происходят очевидно из этого источника. Но этим нападкам, этой апелляции к здравому смыслу, можно противопоставить и указание на то, как часто этот здравый смысл обманывал человечество. Можно напомнить, наконец, знаменитые слова, которые были поставлены Озиандером как эпиграф к сочинению Коперника: «Нет необходимости, чтобы гипотезы физики были верны или даже правдоподобны. Достаточно, чтобы вычисление выводило из них следствия, совпадающие с наблюдением». Горячие споры о значении общей теории относительности, вероятно, будут долгое время интересовать всех мыслящих людей. Представляет несомненно большой интерес оценить её с точки зрения тех двух противоположных воззрений, борьбу которых в вопросах о пространстве и движении мы проследили в начале этой главы, - того идеалистического воззрения, начало которому было положено математической философией пифагорейской школы и того феноменалистического воззрения, наиболее ярким представителем которого в греческой философии был, по-видимому, Протагор. Трудно было бы не ожидать сочувственного отношения к общей теории относительности со стороны тех последователей критического идеализма, которые придают особое значение именно математической философии. Не является ли теория Эйнштейна блестящим подтверждением основной мысли пифагореизма? И действительно, один из виднейших представителей Марбургской школы, Кассирер, в сочинении „Zur Einsteinischen Relativitatstheorie“ (Berlin, 1921) считает положения новой теории вполне совпадающими с философией своей школы. «Теория относительности», пишет Кассирер, «учит нас не считать явления, как они нам представляются, за истину, то есть за выражение окончательных законов опыта. Предмет физики - не отдельные свойства, как они нам представляются, но только единство законов природы». В особенности важно, по мнению Кассирера, то подтверждение, которое теория относительности, уничтожившая, как говорит Эйнштейн, последний остаток физической сущности пространства и времени, заменившая их отношениями между числами, даёт и кантовскому учению о пространстве и времени и той мысли, которая особенно дорога Марбургской школе, по взглядам которой действительно инвариантны не какие-либо вещи, но только отношения или функциональные зависимости. Наиболее последовательно проводит те же мысли Эддингтон в своем прекрасном сочинении „Space, Time and Gravitation“ (Cambridge, 1920). Интересна уже та фикция, с помощью которой он ярко иллюстрирует свой взгляд на «природу вещей» в последней главе своей книги: «Представьте себе, - говорит он, - что вся наша культура погибла, как в свое время погибли культуры сумерийцев и инков. Но человеческая мысль возобновляет свою работу. Около 5000 года нашей эры новые археологи находят единственный остаток нашей культуры, учебник шахматной игры. Что даст им внимательное изучение тех примеров шахматной игры, которые они там найдут? Они поймут, что речь идёт о передвижениях в многообразии двух измерений по известным законам, что одно „нечто“ имело право двигаться с a1 на d4 или e5, нечто другое переходит от a1 к b3 и т.п. Но узнает ли кто-нибудь из этих археологов и других учёных, привлеченных к решению загадки, какую форму имели и из какого материала были образованы те клетки, на которые разделено многообразие двух измерений, какую форму имели реальности, двигавшиеся по изученным законам; наконец, кто были те, которые выдумали законы игры и передвигали по этим законам?» «Таковы же и наши знания; они суть только знания отношений между символами некоторых „неопределимых“‚ неизвестных реальностей. Всё, что мы называем пространством, временем, движением, материей, электричеством, тяготением, есть только проявление этих отношений». Взгляды Эддингтона всего более характеризуются также его фразой: «Дайте мне отношения - и я построю материю и движение». Стоя на этой точке зрения‚ Эддингтон является защитником новой теории электромагнитных явлений, опубликованной Вейлем в 1918 году и подробно изложенной в его сочинении: «Raum - Zeit - Materie» (4-е издание, 1921). Подобно тому, как теория Эйнштейна определяет метрику мира с помощью некоторой квадратичной формы или, иначе говоря, с помощью основного тензора, составляющие которого являются потенциалами тяготения, теория Вейля связывает электромагнитные явления с некоторой линейной формой или, иначе говоря, с некоторым вектором. Если теория Эйнштейна основана на отрицании некоторых основных положений классической механики, то и теория Вейля основана на удалении одного утверждения, лежащего в основе Римановой геометрии. Мы указали в главе III, что в своих исследованиях о многообразиях многих измерений Риман ввёл положение о независимости единицы длины, служащей для измерения многообразия, от положения в этом многообразии. В теории Эйнштейна - Минковского предполагается также, что интервал и входящие в его выражение величины измеряются также одной единицей, какую бы точку-событие мира мы ни рассматривали, то есть в какой бы точке пространства и в какой момент времени мы не производили бы измерение. Но не есть ли это положение произвольно принятая предпосылка? Имеем ли мы право утверждать, что если, находясь в Петрограде 1-го марта, мы желаем в Казани 1-го мая произвести измерение некоторого расстояния, то результат измерения будет один и тот же и в том случае, когда масштаб останется в Петрограде до 1-го мая и тогда перенесётся в Казань, и в том случае, когда, напротив он уже 1-го марта будет перенесён в Казань и будет лежать там без употребления? Другими словами, спрашивается, зависит ли перенесение отрезка от той мировой линии, по которой оно совершается. Вейль ставит в основание своей теории предположение, что бесконечно малое изменение числа , измеряющего отрезок при переходе от мировой точки ( ) к точке, бесконечно близкой ( ), пропорционально числу , и коэффициент пропорциональности выражается линейной формой Подобно тому, как по теории Эйнштейна поле тяготения связано с основным метрическим тензором , по теории Вейля вектор, составляющие котораго суть , определяет электромагнитное поле. Метрика мира определяется, таким образом, 14 числами[36], если допустить, что в природе все проявления силы сводятся к тяготению и к силам электромагнетизма. Вейль показывает, что простейшее предположение, которое мы можем сделать относительно функций , равносильное допущению независимости перенесения отрезка от пути, приводит к основным уравнениям электродинамики, данным Максвеллом[37]. Теория Вейля не подтверждается до сих пор никакими конкретными фактами и поэтому не встретила пока сочувствия физиков (сдержанно относится к ней и Эйнштейн); но она несомненно представляет новый шаг на том пути введения принципов относительности, которым последовательно шла человеческая мысль. Она вводит новый принцип - принцип относительности величины, подобно тому как общая теория относительности основана на принципе относительности движения. С другой стороны, и по своему основному характеру она аналогична теории Эйнштейна. И та и другая не дают на вопросы о природе тяготения или электричества иного ответа кроме математических соотношений между мировыми параметрами. Исполняется пророчество Декарта: «Науки в их настоящем состоянии закрыты маской и представились бы в своей полной красоте, если сорвать с них эту маску; умственному взору того, кто обозревает цепь наук, она без труда представится тогда как ряд чисел». В математических соотношениях между числами, выражающими законы сопряжения «точек-событий», этих неопределимых далее элементов мира, идеализм, возрождая основную идею пифагореизма, может видеть ту истинную реальность, которая скрывается за нашими ощущениями, и находить в общей теории относительности новый аргумент против материализма, нашедшего эту реальность в атомах и их движении. «Мозг, составленный из дифференциальных коэффициентов потенциалов , едва ли может считаться менее приспособленным к целям мышления, чем мозг, составленный из ничтожно малых бильярдных шаров» (Eddington). Таковы идеалистические выводы из общей теории относительности. Но из неё можно сделать и делаются иные выводы. Одной из целей нашей работы было выявить ту атмосферу научной мысли, в которой была создана общая теория относительности. Подобно тому, как гипотеза абсолютного пространства Ньютона выросла в атмосфере английского платонизма, так и идеи, положенные в основание теории Эйнштейна, совпадают с идеями той школы научной философии, выдающимися представителями которой являются Мах и Авенариус. Не только отношение к вопросам об инерции и об абсолютном движении сближают Маха и Эйнштейна; мы привели в предыдущей главе цитату, в которой творец теории относительности признает заслуги в этом отношении своего предшественника. Но существуют и иные черты ещё более глубокого сходства в воззрениях Маха и в выводах теории относительности. Одна из важнейших сторон этой теории есть бесспорно слияние геометрии с физикой, другими словами, уничтожение того особого положения, которое со времени Платона и Демокрита занимало пространство, уничтожение различия между первичными и вторичными качествами. Но Мах уже в 1866 году писал: «Физическое пространство, которое я имею в виду (которое заключает в себе вместе с тем и время), есть не что иное, как зависимость явлений друг от друга. Современная физика, которая распознала бы эту основную зависимость, не имела бы больше никакой надобности в особых воззрениях пространства и времени, так как они и без того были бы исчерпаны». Та настойчивость, с которой Мах проводил свои взгляды на цель и характер научных исследований, на необходимость избегать «кажущихся задач» (Scheinprobleme), находит свое рельефное выражение в физике Эйнштейна: «Понятие существует для физики постольку, поскольку есть возможность в конкретном случае определить, верно оно или нет». Мах как будто бы предвидел то значение, которое будет иметь уничтожение догмы независимости времени от пространства, когда он писал: «Наука более выигрывает от того, что она игнорирует, чем от того, что рассматривает». Нельзя не согласиться поэтому со словами одного из наиболее видных представителей школы Маха, Петцольда, когда он в своей статье «Отношение мыслей Маха и теории относительности» (Приложение к последнему, седьмому изданию «Механики» Маха) пишет: «Теория относительности не находится ни в одном из своих существенных утверждений в противоречии со взглядами Маха. Она есть плод его мыслей, пустивших глубокие корни и широко разветвившихся в могучее дерево». Но взгляды Маха на физику и геометрию, на цели научного исследования неразрывно связаны с его философскими воззрениями - отрицанием иной реальности, кроме наших ощущений, с тем течением, которое ведет нас через Беркли к Протагору. Гёте выразил основную идею этого течения в словах: «Всякая философия природы остаётся в конце концов только антропоморфизмом. Мы можем, как хотим, наблюдать природу, измерять, вычислять, взвешивать, но всегда остаются только наши впечатления, наш мир; всегда человек остается мерой вещей». Если общая теория относительности находится в такой тесной связи с взглядами Маха, то едва ли прав Кассирер, когда он говорит: «У теории относительности общее с релятивистическим позитивизмом только название». Становится, напротив, вполне понятным то сочувствие, с которым общая теория относительности встречена представителями этой школы позитивистов. Но если общая теория относительности имеет, как мы увидели, точки соприкосновения с двумя противоположными философскими мировоззрениями, если она встречает горячее сочувствие у представителей и того и другого воззрения, то нельзя ли видеть в этом указание на возможность и приближение синтеза, сближающего эти воззрения? В конце XVIII века Кант дал синтез, сблизивший детерминизм математической философии Ньютона с идеалистическими воззрениями Декарта и Лейбница; этот синтез надолго определил собой философское мышление человечества. Но синтез Канта не мирится с результатами неевклидовой геометрии и едва ли можно примирить его, как продолжают думать многие, с результатами теории относительности. Новый будущий синтез, конечно, также не удовлетворит навсегда человеческую мысль. Расширение физического опыта с одной стороны, могущество математического анализа - с другой, откроют уму новые горизонты, подобно тому, как это сделала теория Эйнштейна. Тот царственный путь, по которому пойдет человеческая мысль и впредь, будет одинаково далёк и от «антинаучных построений и безответственных мистических исканий» современных неоплатоников и гностиков, и от узкого фанатизма, считающего материализм Геккеля и Энгельса последним словом человеческого мышления. Приведет ли этот путь человечество к решению загадки «реальности» и к решению другой загадки, почему и для чего вспыхнула на ничтожной космической пылинке человеческая мысль, в истории которой страница, посвященная вопросам о пространстве, времени и движении, есть одна из самых важных и плодотворных? - тому и другому решению этого вопроса противопоставим лозунг: «Laboremus» («Будем трудиться». - Прим. ред.).×
About the authors
A. V. Vasiliev
Author for correspondence.
Email: vladimirov-yus@rudn.ru
российский математик и общественный деятель, заслуженный профессор Санкт-Петербургского университета
Supplementary files